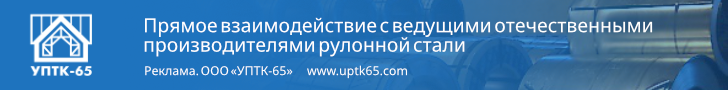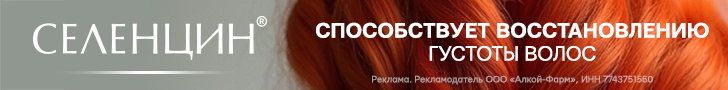Я обнаружил, что борюсь с тем, что написать, чтобы напугать вас в этот Хэллоуин, учитывая, что, кажется, все уже было сказано о пугающих и тревожных произведениях искусства. Каждый рейтинг и том по истории искусств тщательно анализировал самые ужасающие картины, исследуя каждый темный аспект. Поэтому я решил сменить курс, сместив фокус не на сами работы, а на жизни художников, которые их задумали. Таким образом, я создал список из 10 самых тревожных и противоречивых биографий в истории искусства. На самом деле, беспокойная жизнь художников, отмеченная спорным поведением, драматическими событиями и личной борьбой, может быть столь же тревожной, как и созданные ими шедевры. Эти истории жизни, наполненные напряжением и мучениями, раскрывают тень, которая питала творческий гений, стоящий за каждой картиной, что продолжает глубоко беспокоить нас и сегодня.
Мы начнем это темное путешествие с изучения жизни некоторых из самых известных и «ужасающих» имен в истории западного искусства: Караваджо, мастер светотени, известный своей жестокой жизнью; Франсиско Гойя, который перенес свой внутренний кошмар в «Черные картины»; Эдвард Мунк, чья тревога и отчаяние отражены в его знаковых работах; Иероним Босх, который оставил нам сюрреалистические и тревожные миры, населенные кошмарными существами; Сальвадор Дали, эксцентричный и провокационный гений; Фрэнсис Бэкон, который искажал реальность в портретах чистого ужаса; Винсент Ван Гог, чья трагическая жизнь отражена в его самых мучительных картинах; Густав Климт, мастер неоднозначных работ, балансирующих между красотой и беспокойством; Фрида Кало, которая увековечила свою физическую и эмоциональную боль на холсте; и Эгон Шиле, чье творчество и жизнь были отмечены интенсивностью и трансгрессией.
Приготовьтесь, потому что вы не просто собираетесь читать простые биографии. Структура этого повествования заставит вас представить, как вы встречаетесь со мной с этими художниками, один за другим, каждый из которых одет в одежду своей эпохи, говоря с вами от первого лица…
 Караваджо, Медуза, 1597. Масло, холст на дереве, 60 см × 55 см. Уффици, Флоренция.
Караваджо, Медуза, 1597. Масло, холст на дереве, 60 см × 55 см. Уффици, Флоренция.
Топ-10: самые тревожные биографии в истории искусств
1. Караваджо (1571-1610)
В табачной лавке ко мне подходит человек в одежде XVII века. Я сразу узнаю его: Микеланджело Меризи да Караваджо, тот самый измученный гений, который произвел революцию в искусстве своей светотенью и драматическими композициями. Он подходит ближе, пристально смотрит и начинает говорить…
«Я родился 29 сентября 1571 года, в день Архангела Михаила. С юных лет моя жизнь была отмечена трагедией. Когда мне было всего шесть лет, в Милане разразилась чума, и в течение нескольких месяцев я потерял почти всех мужчин в своей семье: мой отец, бабушки и дедушки, дяди умерли один за другим. Именно в этой темноте начал формироваться мой мятежный и беспокойный характер.
В двенадцать лет я начал свое ученичество в Милане, но больше увлекался мечом, чем фреской. Мои руки освоили искусство дуэли так же быстро, как и искусство кисти. В 1592 году я потерял мать и младшего брата. У меня ничего не осталось, поэтому я продал все и покинул Милан. Я прибыл в Рим, город, обещавший богатство, но моя мятежная натура вскоре доставила мне неприятности.
Не только мое искусство принесло мне репутацию, но и моя бурная жизнь. Я спорил, дрался на дуэлях и в конце концов, в 1606 году, убил человека на незаконной дуэли. С этого момента я стал беглецом, приговоренным к смертной казни заочно. Я бежал из Рима, сначала в Неаполь, затем на Мальту и, наконец, на Сицилию, пытаясь избежать приговора, но даже вдали от столицы мои враги нашли меня. Для меня не было покоя, ни на поле боя, ни в моем искусстве. Даже когда я находил убежище в своих картинах, тени моей жизни проявлялись.
Даже моя последняя надежда — вернуться в Рим, чтобы получить помилование, — была разрушена. После ареста и освобождения меня одолели болезнь и истощение. Я умер всего в 38 лет, так и не найдя искупления».
 Франсиско Гойя, «Сатурн, пожирающий своего сына», 1820-1823. Масло на гипсе, перенесено на холст, 143,5 × 81,4 см. Музей Прадо, Мадрид.
Франсиско Гойя, «Сатурн, пожирающий своего сына», 1820-1823. Масло на гипсе, перенесено на холст, 143,5 × 81,4 см. Музей Прадо, Мадрид.
2. Франсиско Гойя (1746 – 1828)
Сидя за столиком кафе, погруженный в свои мысли, я заметил приближающуюся размеренными шагами фигуру. У мужчины, закутанного в темный развевающийся плащ, было лицо, отмеченное глубокими морщинами, и глаза, которые, казалось, хранили тайны из далекого времени. Не было нужды спрашивать, кто он: это был Франсиско Гойя, художник, который произвел революцию в испанском искусстве своей мрачной интерпретацией реальности. Он сидел рядом со мной…
«В 1746 году в небольшой деревне под названием Фуэндетодос я появился на свет в семье скромного происхождения. Мое детство было простым, но настоящая битва началась, когда в 1792 году меня поразила болезнь, оставившая меня глухим. Этот момент изменил все. Мир стал темнее, мое видение жизни более мучительным. С потерей слуха моя связь с реальностью также оборвалась, и я начал рисовать то, что видел: не только физический мир, но и внутренний, полный страхов, безумия и кошмаров.
В 1799 году я работал над серией, которую назвал «Los Caprichos» . В 80 гравюрах я обличал коррупцию, суеверия и моральный упадок моей Испании. Это были карикатуры на человеческое поведение, образы, обнажавшие безумие общества. Это были не просто рисунки, а выражения моей растущей горечи и отчужденности от мира, который я больше не узнавал. Я публиковал их тихо, без фанфар, но я знал, что их послание будет трудно игнорировать.
Когда началась война, насилие, свидетелем которого я стал, оставило во мне глубокий шрам. Я написал «Второе мая 1808 года» и «Третье мая 1808 года» , визуальные свидетельства ужаса и жестокости, охвативших мою страну. Но это было только начало. Я нашел убежище в своем доме, Ла-Кинта-дель-Сордо, и там я дал жизнь « Черным картинам» , работам, наполненным монстрами и гротескными сценами, которые отражали мои внутренние страдания.
В конце концов я переехал в Бордо, вдали от моей любимой Испании, но со знанием того, что мое искусство останется, даже когда меня не станет».
 Эдвард Мунк, «Смерть и дитя», 1889.
Эдвард Мунк, «Смерть и дитя», 1889.
3. Эдвард Мунк (1863 – 1944)
Я был на рынке, окруженный яркими цветами прилавков, когда заметил человека с мрачным взглядом и напряженной осанкой, стоящего неподалеку. Его темная, поношенная одежда резко контрастировала с веселой атмосферой места. Мне не потребовалось много времени, чтобы узнать его: Эдвард Мунк, художник, который превратил тоску в искусство. Он медленно подошел, взял один из выставленных апельсинов и начал…
«В 1863 году в небольшой норвежской деревне Одалсбрук началась моя жизнь под тенью смерти. Моя мать умерла от туберкулеза, когда мне было всего пять лет, а вскоре после этого та же болезнь унесла и мою любимую сестру Софи. Эти потери опустошили моего отца, глубоко верующего человека, который считал, что болезни нашей семьи — это божественное наказание. Он часто впадал в депрессию, говорил о духовных видениях, и его жесткая вера и постоянное чувство вины омрачали мою юность.
В детстве мне пришлось столкнуться с болезнью и смертью. Я часто болел, суровые норвежские зимы держали меня взаперти дома, и поэтому я нашел убежище в рисовании. Мой отец часто читал мне и моим братьям и сестрам истории о привидениях, особенно Эдгара Аллана По, вселяя в меня глубокую тревогу о смерти».
Мунк замолкает, его взгляд темнеет, затем он продолжает: «В 1885 году, когда я писал «Больного ребенка» , я пытался запечатлеть невыносимую боль, которую я испытывал, наблюдая за смертью моей сестры Софи. Однако критики разнесли картину в пух и прах за ее грубый и нетрадиционный вид. Тогда я впервые понял, как искусство может быть криком боли».
В 1908 году, после многих лет излишеств и внутренней борьбы, у меня случился нервный срыв. Я был в ловушке своих демонов, боли от потери матери и сестры, напряжения в моей душе. Я оказался в больнице на несколько месяцев, проходя строгое лечение и электротерапию. Этот период оставил на мне глубокий след. Но даже в этой темноте я нашел способ выразить себя. Именно тогда я создал серию «Альфа и Омега» , представляющую мои конфликты с друзьями и врагами.
Он заключает, почти шепча: «Несмотря ни на что, я всегда жил в присутствии смерти. Последние годы моей жизни были менее мучительными, но память об этих потерях, об одиночестве и тоске никогда не покидала меня. Крик души, который вы слышите в моей самой известной картине «Крик» , никогда по-настоящему не прекращался».
 Иероним Босх, Извлечение камня безумия. Музей Прадо, Мадрид.
Иероним Босх, Извлечение камня безумия. Музей Прадо, Мадрид.
4. Иероним Босх (1453 – 1516)
Я был в старом книжном магазине, окруженный запахом пергамента и древних томов, когда увидел его. Человек с тревожным лицом и уклончивым взглядом, закутанный в потертый плащ, уставился на пыльную полку. Его мрачный вид резко контрастировал с теплом и спокойствием этого места. Я заметил его, когда наши руки потянулись к одной и той же книге. Иероним Босх, художник, придавший форму кошмарам человечества, провел по обложке своими тонкими пальцами и сказал мне…
«Я родился между 1450 и 1456 годами, но точная дата остается загадкой, как и большая часть моей жизни. Моя семья была обеспеченной, и, выросши в Хертогенбосе, в Нидерландах, я унаследовал страсть к живописи от своих предков, которые образовали настоящую художественную династию. Когда мне было всего семь или восемь лет, мой город был опустошен пожаром, уничтожившим около 4000 домов. Возможно, именно это событие посеяло первые семена адских видений, которые позже определили мои картины.
Огонь, разрушение и тьма были моими постоянными спутниками. Я всегда жил в тени конца света. В 1495 году немецкий астролог предсказал, что конец света наступит в 1524 году с апокалиптическим потопом. Этот коллективный ужас повлиял на многих художников, включая меня. Мой Страшный суд и другие работы того времени отражали эти страхи: дьяволы, злые духи и мутировавшие существа населяли мои кошмары и кошмары моей аудитории».
Говоря это, Босх продолжал описывать свой своеобразный стиль: «Мои картины не просто изображали религиозные видения. Они были путешествием в хаос и человеческий грех. В «Саду земных наслаждений » я показал, как красота может превращаться в ужас. Гротескные существа, сцены разврата и монстры, появляющиеся из тьмы: все это отражало вечную битву между добром и злом».
Голос Босха стал более доверительным: «Конечно, ходили слухи. Некоторые говорили, что я являюсь частью еретической секты, адамитов. Другие предполагали, что мое воображение исказила спорынья, галлюциногенный грибок, который портит зерно. Но правда гораздо проще и гораздо страшнее: то, что я видел и рисовал, пришло из глубин человеческого разума, из темного места, где обретает форму ужас».
Сальвадор Дали, Лицо войны, 1940. Olio su tela. Музей Бохиманса Ван Бенингена, Роттердам.
5. Сальвадор Дали (1904 – 1989)
Я находился в сюрреалистическом саду, окруженном причудливыми деревьями и цветами невозможных цветов, когда заметил человека, окутанного аурой таинственности. Его фигура, одетая в эксцентричную одежду и в шляпе, которая, казалось, пришла из сна, сразу привлекла внимание. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что это был Сальвадор Дали! Он грациозно приблизился, наблюдая за группой бабочек, танцующих в воздухе, и театральным жестом показал мне…
«Я родился в Фигерасе в зажиточной буржуазной семье, и моя жизнь началась под тенью смерти, отмеченной потерей моего старшего брата, которого тоже звали Сальвадор. С юных лет я чувствовал тяжесть того, что меня считают реинкарнацией того потерянного ребенка, мысль, посеявшая во мне ряд тревог и навязчивых идей, которые преследовали меня на протяжении всей моей жизни. По мере того, как я рос, мой характер проявлялся во вспышках гнева и разочарования, признаках измученной души.
Пейзажи Каталонии, окружавшие меня, вдохновляли мое искусство, но мое существование никогда не было простым. В 16 лет я пережила разрушительную травму со смертью матери, событие, которое глубоко ранило мою душу. Ее потеря была «величайшим ударом, который я когда-либо получала». Мое художественное обучение началось в контексте отсутствия и боли, где штрихи моего карандаша стремились придать форму миру, который, как я чувствовала, ускользал от меня.
В 1929 году, после разрыва с отцом, который выгнал из дома и меня, и мою эксцентричную личность, я начал жить отшельником, запертый в своем творческом мире. Моя живопись стала окрашена снами и кошмарами, с предметами, искажающимися в интерпретации подсознания. Используя свой параноидально-критический метод, я ставил сюрреалистические видения, исследуя темы времени, смерти и самой сути существования.
С Галой, моей музой, моя рутина преобразилась еще больше, но не без бремени одержимости и страха быть покинутым. Последние годы действительно были отмечены спиралью депрессии, во многом из-за ее болезни и ее манипуляций моим здоровьем. С ее смертью в 1982 году я снова оказался во тьме. Моя борьба с жизнью и искусством продолжалась, но именно создание Театра-музея Дали в Фигерасе, моего завещания, дало окончательное чувство смысла моему существованию».
Фрэнсис Бэкон, Живопись, 1946: Масло и пастель на холсте, 197,8 x 132,1 см. Нью-Йорк, MoMA.
6. Фрэнсис Бэкон (1909 – 1992)
Я оказался в старой мясной лавке, металлический запах мяса наполнял воздух, а крюки слегка покачивались, создавая смутно тревожную атмосферу. Среди висящих туш стоял Фрэнсис Бэкон, тщательно выбирая куски сосредоточенным взглядом, в то время как мясник давал ему советы. В какой-то момент Бэкон повернулся ко мне с почти заговорщической улыбкой и спросил, какой кусок я бы выбрал. Однако прежде, чем я успел ответить, он начал говорить…
«Я родился в Дублине, ношу имя известного предка, но моя жизнь сразу же была отмечена трагедией. Мое детство, омраченное постоянным насилием, было сформировано гнетущей семейной обстановкой и моей зарождающейся гомосексуальностью. Когда я стал старше, жестокое обращение со стороны отца достигло кульминации в физическом и психологическом насилии, что в конечном итоге привело к тому, что меня выгнали из дома за то, что я осмелился носить женскую одежду.
Не имея возможности пойти, я скиталась между Лондоном, Берлином и Парижем, где нашла новую свободу для исследования своей сексуальной идентичности. Моя жизнь превратилась в карусель бурных отношений и встреч с увлекательными, но разрушительными мужчинами. Мои отношения с Питером Лейси, бывшим пилотом, оказались особенно интенсивными; наши приключения перерастали в насилие и хаос, но также и в моменты глубокой связи.
После войны я с новой страстью занялся живописью, превращая свои переживания страданий в искусство. Каждая картина становилась отражением моей боли, грубым изображением моих самых глубоких эмоций. Но жизнь продолжала наносить мне сокрушительные удары, включая потерю моего возлюбленного Джорджа Дайера, чье самоубийство разрушило мой мир. В последние годы жизни, по мере приближения смерти, я пытался восстановить себя с помощью кисти, но тени прошлого никогда не покидали меня, оставляя мне глубокую меланхолию и сложное наследие».
 Ван Гог, Голова скелета с горящей сигаретой, 1886. Масло на холсте, 32,5 x 24 см. Музей Ван Гога.
Ван Гог, Голова скелета с горящей сигаретой, 1886. Масло на холсте, 32,5 x 24 см. Музей Ван Гога.
7. Винсент Ван Гог (1853 – 1890)
Я стоял на поле подсолнухов, солнце палило нещадно, а растения мягко покачивались на ветру. Среди этих высоких желтых цветов я заметил человека, сгорбившегося над мольбертом, полностью погруженного в свою работу. Я не знал, кто он, но его присутствие, казалось, органично вписывалось в окружающую обстановку. Когда он увидел меня, его лицо внезапно потемнело. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он хрипло, явно раздраженный, как будто одно мое присутствие нарушало его покой. На мгновение я подумал уйти, но затем его взгляд смягчился…
«Я Винсент Ван Гог, и моя жизнь отмечена постоянными страданиями и бурными отношениями. Я так и не обрел покоя, ни в себе, ни в своих взаимодействиях с миром. Годами я боролся с бедностью, бесконечно рисуя, но не добившись настоящего успеха. За всю свою жизнь я продал только одну картину, и эта неудача поглотила меня. Я зависел от финансовой поддержки моего брата Тео, который всегда пытался мне помочь, хотя я часто обвинял его в том, что он недостаточно делает для продажи моих работ.
Любовь для меня была столь же мучительной. Я влюбился в свою кузину Ки Вос-Стрикер, но она отвергла меня без колебаний, что вызвало раскол между мной и моей семьей. Позже я жил с проституткой, Син, надеясь найти утешение, но наши отношения были такими же отчаянными, как и наша жизнь. Она была бедной, больной и уже матерью двоих детей, один из которых умер молодым. Несмотря ни на что, я привязался к ней, но наша связь оттолкнула тех немногих сторонников, которые у меня были.
Моя психическая нестабильность всегда была частью меня. Эпизоды бреда и депрессии чередовались с короткими моментами ясности. Во время приступа ярости я отрезал часть своего уха, жест, который ознаменовал пик моего психологического срыва. Я добровольно отправился в психиатрическую больницу в Сен-Реми, где, по иронии судьбы, я написал некоторые из своих самых известных работ, например, «Звездную ночь» . Но, несмотря на мое творчество, мой разум так и не обрел покоя.
Даже моя дружба с Полем Гогеном стала источником боли. Мы пытались создать сообщество художников, но наши отношения переросли в насилие, достигнув кульминации в ужасном споре, который привел к моему отчаянному акту увечья. После того, как Гоген бросил меня, я почувствовал себя более одиноким, чем когда-либо.
В конце концов, бремя моего существования стало невыносимым. Я продолжал рисовать день за днем, но моя депрессия только углублялась. 27 июля 1890 года, не в силах больше терпеть, я застрелился».
 Густав Климт, Смерть и жизнь, 1908-1915. Масло на холсте, 180,5×200,5 см. Музей Леопольда, Вена.
Густав Климт, Смерть и жизнь, 1908-1915. Масло на холсте, 180,5×200,5 см. Музей Леопольда, Вена.
8. Густав Климт (1862 – 1918)
Стоя на автобусной остановке, я наблюдал за людьми вокруг меня, пока транспорт медленно двигался мимо. Среди толпы мое внимание привлекла влюбленная пара: они были сцеплены в объятиях, полностью потерянные друг в друге, как будто окружающий мир не существовал. Затем, чуть дальше, я заметил мужчину, сидящего на скамейке с открытым блокнотом на коленях. Он делал наброски с удивительной скоростью, его глаза были устремлены на пару. Я подошел, заинтригованный, и через мгновение понял, кто это был: Густав Климт! Художник, заметив мой взгляд, начал рассказывать мне о себе…
«Родившись в бедной семье и пережив трагедию, моя жизнь с самого начала была чередой болезненных событий. Преждевременная смерть моей сестры Анны, которой было всего пять лет, была только началом. Вскоре после этого моя сестра Клара сдалась под тяжестью религиозного рвения, которое довело ее до безумия. Эти потери, наряду с постоянными финансовыми трудностями, с которыми сталкивалась моя семья, глубоко повлияли на мою жизнь и работу. Искусство было моим единственным спасением, но даже там я не находил покоя.
Когда я потерял и отца, и брата Эрнста, моя жизнь была еще больше разрушена. Внезапная смерть Эрнста от болезни сердца оставила глубокую пустоту, и мне пришлось содержать не только свою мать и сестер, но и его молодую вдову и их новорожденную дочь. Его смерть замедлила мою работу, ознаменовав период кризиса, который распространился и на мою художественную карьеру. Общественные заказы, которые когда-то определяли мою раннюю карьеру, стали источником споров, кульминацией которых стало болезненное отклонение моей работы Венским университетом.
Моя личная жизнь была не менее проблемной. Хотя я так и не женился, мои отношения с женщинами были многочисленными и часто бурными, за которыми следовали сплетни и домыслы. Эмили Флёге, моя ближайшая наперсница, оставалась рядом со мной, но наша связь, хотя и глубокая, так и не переросла в полноценные романтические отношения. Мое эротическое искусство, которое многие считают слишком откровенным даже сегодня, возможно, отражало внутренний конфликт, который я испытывал: желание выразить свободную чувственность, однако подавляемое общественными ограничениями, в которых я жил.
В 1918 году у меня случился инсульт, парализовавший меня. Не имея возможности рисовать, я впал в глубокое отчаяние. Инфлюэнца довершила свое дело, забрав меня 6 февраля того же года, во время пандемии, унесшей жизни многих великих венских художников. Я умер, чувствуя, что мир вокруг меня меняется, и что искусство, которым я так страстно жил и любил, быстро становится частью прошлого».
Фрида Кало, Две Фриды, 1939. Холст, масло, 174×173 см. Музей современного искусства, Мехико.
9. Фрида Кало (1907–1954)
Тропический сад, казалось, окутал меня своим взрывом зелени, листья шептались на ветру, а мелкие млекопитающие с любопытством прыгали среди ветвей. Среди пышных растений я заметил Фриду Кало, сидящую на каменной скамье. Обезьяна проворно взобралась ей на плечо, а птица изящно устроилась на другом, создавая сцену, которая, казалось, сошла прямо с одной из ее картин. Я подошел, и прежде чем я успел что-либо сказать, художница начала говорить…
«Мое существование было отмечено болью и болезнями с самого детства, оставившими глубокие шрамы как на моем теле, так и на душе. В возрасте шести лет я заболел полиомиелитом, который изолировал меня от других детей и деформировал одну из моих ног, сделав меня хромым. Но именно в восемнадцать лет моя жизнь изменилась навсегда: почти смертельный несчастный случай пронзил меня металлическим стержнем и оставил меня неподвижным в постели с множественными переломами и раздробленным тазом. Эта физическая травма не только оторвала меня от мечты стать врачом, но и подтолкнула меня к искусству как способу исследовать и справляться со своей болью.
Моя семья, набожная и строгая, не всегда понимала мои внутренние страдания. Однако мой отец был одним из немногих людей, с которыми у меня была особая связь, и именно он поощрял меня рисовать во время моего долгого восстановления. Он дал мне краски и зеркало, позволив мне преобразовать свою неподвижность в творчество через автопортреты, которые стали моим окном в мир самоанализа.
Моя личная жизнь была столь же проблемной. Диего Ривера, мужчина, за которого я вышла замуж и с которым я разделила свое сердце, совершил глубокие предательства, включая интрижку с моей сестрой Кристиной. Эта боль переполняла меня, заставляя искать утешение в других отношениях, например, с фотографом Николасом Мураем и скульптором Исаму Ногучи, но ни одно из них не могло заполнить эмоциональную пустоту, которую я чувствовала внутри.
Несмотря на все это, я нашла убежище в своей мексиканской идентичности. Я сменила имя с Фриды на Фрида и с гордостью носила традиционную одежду Теуана, принимая свои корни и превращая свое израненное, покрытое шрамами тело в символ стойкости. Даже в своих работах я исследовала двойственность своего наследия и пересечение физической боли и красоты моей страны.
В последние годы мое здоровье резко ухудшилось. Неудачные операции на позвоночнике часто приковывали меня к постели или инвалидному креслу. Несмотря на это, я никогда не прекращал рисовать, продолжая выражать свою борьбу через холсты, наполненные символизмом и страданием. Даже на моей последней выставке, куда меня привезла скорая помощь и поместила на кровать в центре галереи, это был акт неповиновения ограничениям моего тела.
Я умерла в 1954 году, в возрасте всего 47 лет. Даже моя смерть была окружена тайной, шепотом о самоубийстве. Но до самого конца мое искусство оставалось криком неповиновения, отражением женщины, которая, несмотря на раны, никогда не прекращала бороться».
 Эгон Шиле, Смерть и Дева, 1915. Масло на холсте, 150×180 см. Österreichische Galerie Belvedere, Вена.
Эгон Шиле, Смерть и Дева, 1915. Масло на холсте, 150×180 см. Österreichische Galerie Belvedere, Вена.
10. Эгон Шиле (1890 – 1918)
Сон затянул меня в искажённый мир, полный зазубренных линий и ярких цветов, как будто я ступил прямо в картину. Прогуливаясь по этому сюрреалистичному пространству, я увидел Эгона Шиле, с его терзающим взглядом и нервной позой, как одну из острых фигур, населяющих его произведения. Без предупреждения он начал изливать мне все свои экзистенциальные драмы…
«Ты знаешь, моя жизнь с детства была отмечена потерями и страданиями. Я не могу говорить о своей семье, не думая о своём отце. Он работал начальником станции, но сифилис медленно поглощал его на глазах у нас. Я был всего лишь мальчиком, когда наблюдал, как он исчезает, и эта болезнь забрала не только его — она разрушила нас всех. Я чувствовал тяжесть этой трагедии, как будто это было проклятие, которое будет преследовать меня вечно.
После его смерти я попал под опеку моего дяди, холодного и удалённого человека. Он не понимал моей одержимости искусством, считал это пустой тратой времени. Я рисовал, чтобы осмыслить всю боль, но каждый раз, когда я брал в руки карандаш, я чувствовал разрыв между тем, что хотел выразить, и тем, что мир был готов увидеть. Казалось, что внутри меня есть тьма, которую никто не мог понять.
Затем была Герти, моя сестра. Она была самой близкой мне, может быть, слишком близкой. Люди всегда шептались о наших отношениях, намекая на то, чего они не могут понять. Что они знают о одиночестве? О необходимости держаться за кого-то, когда всё вокруг рушится? Герт не была просто моей сестрой; она была моей музой, моим якорем. И вот почему наша связь была такой глубокой, почти за пределами того, что считалось приемлемым.
Тем не менее, был один момент, который меня больше всего поразил: мой арест в 1912 году. В Нойленгбахе меня обвинили в похищении и соблазнении молодой девушки. Знаешь, в то время я использовал много детей в качестве моделей, и сообщество смотрело на меня с подозрением. Когда полиция ворвалась в мою мастерскую и конфисковала мои рисунки, я почувствовал предательство. В суде судья сжёг одно из моих произведений прямо передо мной, как будто он хотел стереть мою душу с этим поступком. Меня не осудили за похищение, но за то, что я подверг детей непристойным изображениям. Двадцать четыре дня в тюрьме… После этого опыта моё искусство стало ещё более мрачным, более прямолинейным. Я больше не мог игнорировать то, что меня мучило.
Правда в том, что я всегда чувствовал глубокую связь со смертью. Даже моя любовь к Уолли, женщине, которую я изобразил в Смерти и Деве, была попыткой понять неизбежность потери. Я всегда готовился к концу, и когда он наконец пришёл, он отнял у меня всё слишком быстро.»